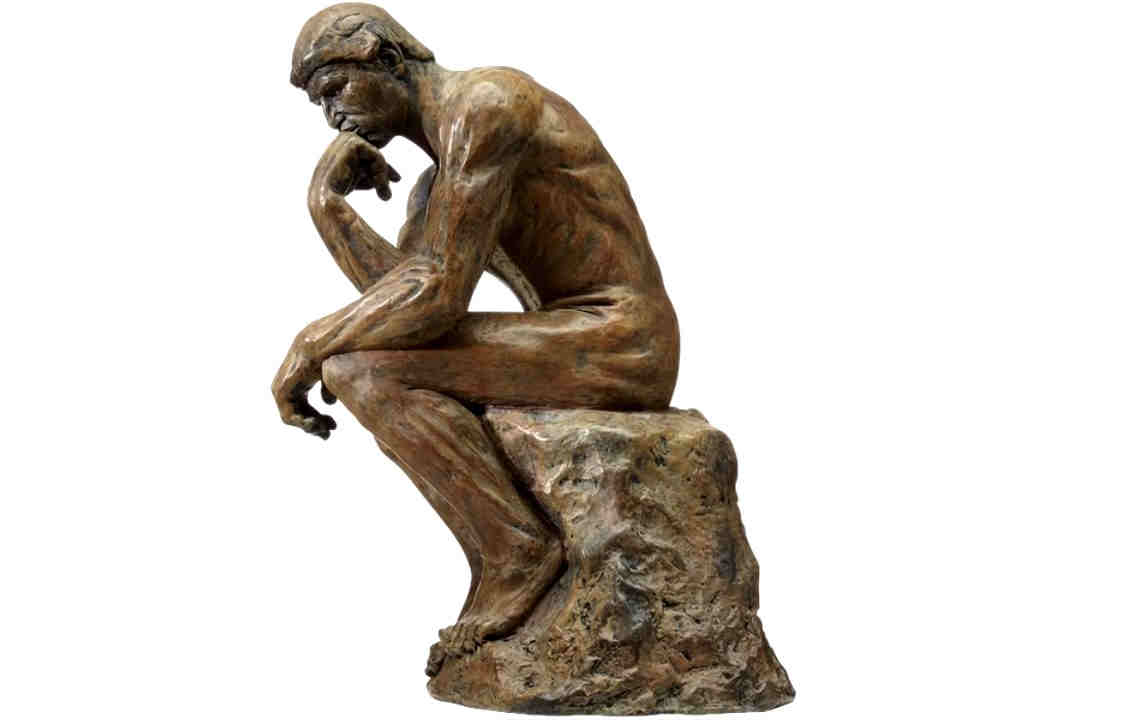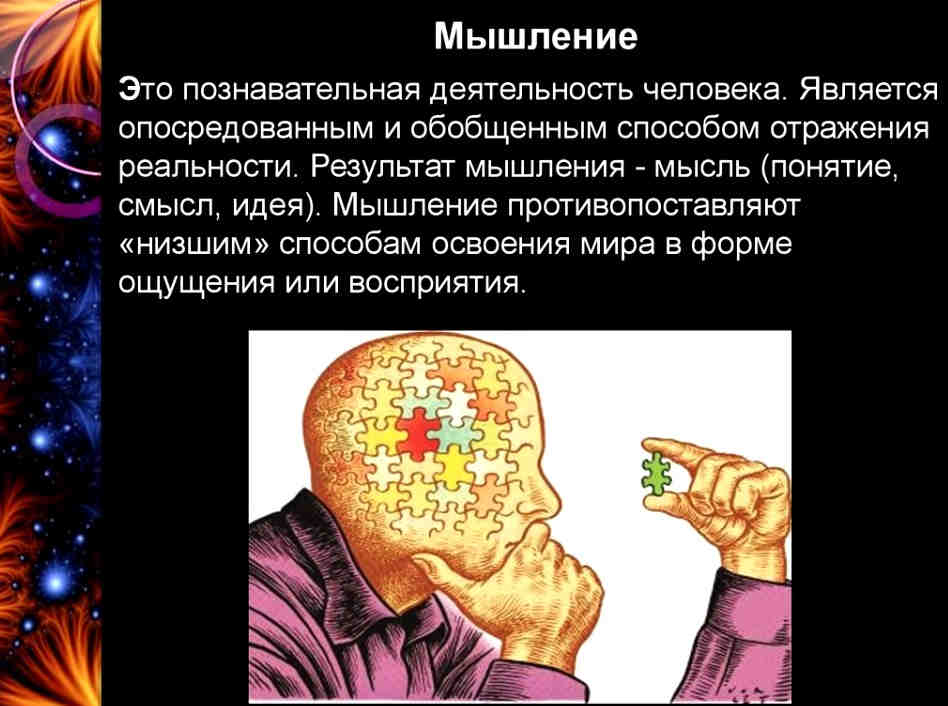Чем мы думаем с точки зрения языка
Как мышление на иностранном языке меняет жизнь
Что с нами происходит, когда мы говорим и тем более думаем на другом языке? Насколько сильно знание иностранного языка меняет мировоззрение и можно ли с его помощью изменить себя и свою жизнь? Вполне, уверена клинический психолог Ирина Гросс.
Одна из клиенток Ирины рассказала, что другой язык формирует у нее не только иное мировоззрение, но и самоощущение. «Говорю на русском — мне неуверенно и тревожно. Говорю на английском — настроение повышается, тревожность уходит, а вместе с ней испаряется и заявленная проблема». И это действительно так, считает психолог.
Иностранный язык создает новую идентичность, в которой нет запретов и ограничений, ведь в детстве на этом языке никто нас не ругал, не критиковал. И когда мы начинаем думать на другом языке, мы чувствуем себя увереннее и свободнее.
«А вы замечали такой эффект, когда говорите на неродном языке? Проведите эксперимент: подумайте о какой-то своей проблеме, начните говорить о ней на русском; переключитесь (сядьте по-другому); подумайте о той же проблеме, но уже на другом языке; расскажите о ней вслух. И как вам результат? Что-то меняется?» Несколько клиентов Ирины почувствовали разницу. Но тогда возникает вопрос: если наш родной язык, на котором нас растили и воспитывали, нередко напоминает нам о каких-то неприятных событиях и сложных чувствах, то можем ли мы изменить жизнь, «сменив» язык?
Речь определяет сознание
Мы думаем так, как говорим. «Речь у ребенка формируется вместе с мышлением. Сначала он не думает, а просто воспринимает — видит, ощущает, слышит, вкушает какой-то предмет, явление или действие, — поясняет эксперт, — затем ассоциирует его со словом, которое произносят другие. «Это нос», «Я тебя люблю», — говорит мама. Далее формируется понятие, и позднее между понятиями образуется связь».
Мы вкладываем в слова не только общепринятые значения из словарей, но и собственный опыт, характер, восприятие
С самого рождения до момента формирования активной речи — от 0 до 2-3 лет — человек наиболее восприимчив к языковым программам. Ребенок впитывает, присваивает не только само слово, его звучание, но и голос, тон, эмоции, которые его сопровождали. Особенно ярко впечатываются в наше сознание слова, сказанные нам с сильными эмоциями, независимо от того, какую окраску они имели.
Когда мы вспоминаем неприятную ситуацию, она всегда сопровождается эмоционально нагруженными фразами близких. Эта невербальная нагрузка продолжает жить с этой фразой, этим словом и дальше. Мы вкладываем в слова не только общепринятые значения из словарей, но и собственный опыт, характер, восприятие.
«Если мы расспросим у нескольких русскоговорящих, что они вкладывают в понятие «люблю», у всех будет разный ответ, содержащий личную, уникальную историю». Для кого-то это слово может оказаться не таким приятным и светлым, как для других. Ведь любили всех в детстве по-разному и говорили о любви тоже по-разному.
«Однажды я работала с клиентом, у которого были сложности с деньгами. Слово «богатство» ассоциировалось у него с негативным аспектом. Его отец часто завидовал другим, более успешным, мужчинам и вслух, при ребенке, осуждал их и критиковал: «Вот урод, наворовал». Понятно, что клиента разрывало на две части. С одной стороны, хочу быть богатым, с другой, не хочу быть «уродом». Мы заменили слово богатый на английскую версию «rich». И это сработало!»
Проявился психотерапевтический эффект «другого» языка. Человек, произнося «проблему» иными словами, отстраивается от привычных конструкций и воспринимает ситуацию с новой стороны. Часто после такого «взгляда» ситуация перестает казаться проблематичной.
«Изучение языка поможет понять, что делает нас людьми»: психолог Лера Бородитски о том, как язык формирует мышление
Александр Цыганков
Язык существенно влияет на картину мира человека. Он определяет такие фундаментальные основы человеческого знания, как представления о пространстве, времени и связях. T&P публикуют статью профессора психологии Леры Бородитски о том, как индейцы Амазонии обходятся без числительных, почему еврейские дети осознают свою половую принадлежность раньше финских детей и как особенности китайского языка влияют на математические способности жителей Поднебесной.
Я беседую с пятилетней девочкой из Пормпуроу — небольшой области проживания аборигенов на западном окончании полуострова Кейп-Йорк в Северной Австралии. Если я прошу ее указать на север, она делает это без всяких колебаний и, как показывает мой компас, абсолютно точно. Спустя какое-то время я задаю тот же вопрос на лекции в Стэнфордском университете, где присутствуют выдающиеся ученые — обладатели премий и медалей за научные достижения. Я прошу их закрыть глаза с тем, чтобы они не видели действия своих соседей, и предлагаю указать на север. Многие отказываются сразу, так как вообще не в состоянии это сделать, другие на время задумываются, а затем указывают на все возможные направления. Я повторяла данный эксперимент в Гарварде, Принстоне, Москве, Лондоне и Пекине — результат был всегда один и тот же.
Бесспорное влияние
Итак, пятилетняя девочка, принадлежащая к определенной культуре, легко делает то, на что не способны крупные ученые из другой культуры. Чем же могут быть обусловлены столь существенные различия в одной из познавательных способностей? Как ни удивительно, причиной может служить разница в языке общения.
Представления о том, что языковые особенности способны влиять на познавательные функции, высказывались уже несколько веков тому назад. С 1930-х годов они получили подтверждение в работах американских лингвистов Эдварда Сепира (Edward Sapir) и Бенджамина Ли Уорфа (Benjamin Lee Whorf). Изучая различия между языками, они пришли к выводу о том, что носители разных языков мыслят по-разному. Такие представления были сначала встречены с большим энтузиазмом, однако, к сожалению, они совершенно не были подкреплены объективными данными. К 1970-м годам многие ученые разочаровались в гипотезе Сепира—Уорфа, и на смену ей пришли теории универсальности мышления и речи. Однако сегодня, спустя несколько десятилетий, наконец, появился большой фактический материал, свидетельствующий о формировании мышления под влиянием особенностей языка. Эти факты опровергают устоявшуюся парадигму универсальности мышления и открывают новые увлекательные перспективы в области происхождения мышления и представлений о действительности. Кроме того, полученные результаты могут иметь важное юридическое, политическое и педагогическое значение.
В мире насчитывается более 7 тысяч языков, и каждый из них требует особых речевых оборотов. Предположим, я хочу сообщить, что посмотрела фильм «Дядя Ваня на 42-й улице». На языке миан, распространенном в Гвинее, в зависимости от употребленного мной глагола собеседник узнает, что я видела фильм только что, вчера или давно. На индонезийском языке, напротив, из конструкции глагола даже не будет ясно, видела ли я его или только собираюсь посмотреть. В русском языке из глагола станет ясен мой пол, а на мандаринском наречии китайского языка мне придется уточнить, идет ли речь о дяде по отцовской или материнской линии и о родстве по крови или по браку — для каждого из данных случаев используется разное существительное. А на языке пираха (на котором говорит маленькое племя, обитающее на одном из притоков Амазонки) я даже не смогла бы сказать «42-я улица» — в нем нет чисел, а имеются лишь понятия «мало» и «много».
В языке тайоре (куук-тайоре) нет таких пространственных понятий, как «левое» и «правое». Вместо них применяются обозначения абсолютных направлений — север, юг, восток и запад.
Различий между разными языками бесконечное множество, но это еще не означает, что носители разных языков по-разному мыслят. Можем ли мы утверждать, что говорящие на миане, индонезийском, русском, мандаринском или пираха в конечном счете по-разному воспринимают, вспоминают и рассуждают об одних и тех же явлениях? На основании данных, полученных в моей и нескольких других лабораториях, мы вправе считать, что язык действительно влияет на такие фундаментальные основы человеческого знания, как представления о пространстве, времени, причинно-следственных связях и отношениях с другими людьми.
Вернемся в Пормпуроу. В языке тайоре (куук-тайоре), на котором говорят в этой области, нет таких пространственных понятий, как «левое» и «правое». Вместо них применяются обозначения абсолютных направлений — север, юг, восток и запад. В английском такие понятия, разумеется, тоже используются, но лишь для указания глобальных направлений. Мы никогда не скажем, например, «надо же, салатные вилки положили на от обеденных!» На языке тайоре, напротив, указания абсолютных направлений применяются во всех пространственных масштабах: можно сказать, например, что «чашка стоит на от тарелки» или «мальчик к югу от Мэри — мой брат». Таким образом, чтобы хоть как-то общаться на этом языке, надо постоянно ориентироваться в пространстве.
Данные, полученные за последние два десятилетия в новаторских работах Стивена Левинсона (Stephen C. Levinson) из Института психолингвистики имени Макса Планка (Неймеген, Нидерланды) и Джона Хэвиленда (John B. Haviland) из Калифорнийского университета (Сан-Диего), показывают, что носители языков, в которых применяются обозначения абсолютных направлений, удивительно хорошо ориентируются в пространстве, в том числе в незнакомых местностях или зданиях. У них это получается лучше, чем у постоянных обитателей, говорящих на обычных языках; более того, их способности выходят за рамки современных научных представлений. Видимо, столь удивительные возможности формируются под влиянием особенностей языка.
Особенности восприятия пространства влекут за собой и особенности восприятия времени. В частности, мы с моей коллегой из Калифорнийского университета (Беркли) Элис Гэби (Alice Gaby) предъявляли говорящим на тайоре иллюстрации с разными разворачивающимися во времени событиями — взрослеющего человека, растущего крокодила, съедаемого банана. Перемешав картинки, мы просили испытуемых расположить их в определенной временной последовательности.
Каждый участник проделал процедуру дважды, будучи сам расположенным в разных направлениях. Говорящие на английском при выполнении задачи раскладывают карточки слева направо, а на иврите — справа налево: таким образом, особенности письма определяют наши представления о временной организации. В случае же с говорящими на тайоре картина была иной: они располагали карточки в направлении с востока на запад. Иными словами, если они сидели лицом к югу, то карточки раскладывались слева направо; к северу — справа налево; к востоку — к себе, к западу — от себя. Никому из испытуемых мы не сообщали, как ориентированы стороны света: они знали об этом сами и спонтанно использовали ориентировку в пространстве для формирования временной структуры.
Существуют и другие различия в представлениях о времени среди разных культур. Так, на английском языке говорят, что будущее впереди, а прошлое позади. В 2010 году исследователь из Абердинского Университета (Шотландия) Линден Майлс (Lynden Miles) и его сотрудники обнаружили, что говорящие на английском при мысли о будущем подсознательно наклонялись вперед, а при мысли о прошлом — назад. Однако на языке аймара, на котором говорят жители Анд, напротив, будущее позади, а прошлое — впереди. Соответственно отличается и их жестикуляция: в 2006 году Рафаэль Нуньес из отделения Калифорнийского университета в и Ева Свитсер (Eve Sweetser) из отделения Калифорнийского университета в Беркли показали, что говорящие на аймара при упоминании о прошлом наклонятся вперед, а о будущем — назад.
Каждый запоминает по-своему
Носители различных языков по-разному описывают события, и в результате по-разному запоминают роль их участников. Каждое событие, даже самое мимолетное, представляет собой сложную логическую структуру, требующую не только точного воссоздания, но и интерпретации.
Возьмем, к примеру, известную историю о том, как бывший вице-президент США Дик Чейни на охоте вместо перепелки случайно ранил своего приятеля Гарри Уиттингтона. Историю можно описать по-разному. Можно, например, сказать: «Чейни ранил Уиттингтона», и это будет прямо указывать на Чейни как на виновника происшествия. Можно сказать и : «Уиттингтон был ранен Чейни», и это уже несколько дистанцирует Чейни от события. Можно вообще оставить Чейни за кадром, написав «Уиттингтона ранили». Сам Чейни высказался так (буквально): «В конечном счете, именно я тот человек, кто нажал на курок ружья, выпустившего заряд, ранивший Гарри», тем самым разделив себя и несчастный случай длинной цепочкой событий. А бывший в то время президентом США Джордж Буш придумал еще более ловкую формулировку: «Он услышал шум крыльев, обернулся, выстрелил и увидел, что его друг ранен», одной фразой превращающую Чейни из виновника несчастного случая в простого свидетеля.
Агентивность трактуется лингвистами как свойство языковой конструкции, в которой человек предстает не субъектом действий, а объектом. Проще говоря, человек описывает ситуацию так, словно он не имеет к происходящему отношения, на событие повлияли не зависящие от него обстоятельства.
На американцев такие словесные фокусы редко оказывают влияние, поскольку в англоязычных странах, где главная задача детей и политиков — увильнуть от ответственности, неагентивные конструкции звучат как нечто явно уклончивое. Говорящие на английском предпочитают обороты, прямо указывающие на роль того или иного человека в событии, например «Джон разбил вазу». Напротив, японцы и испанцы чаще используют именно неагентивные конструкции типа «ваза разбилась» (по-испански — «Se rompiу el florero»), в которых о виновнике происшествия непосредственно не говорится.
Мы с моей студенткой Кейтлин Фози (Caitlin M. Fausey) обнаружили, что такие языковые особенности могут обусловливать различия в воспроизведении событий и воспоминаниях очевидцев. В наших исследованиях, результаты которых были опубликованы в 2010 году, лицам, говорящим на английском, испанском и японском предъявляли видеофрагменты, где два человека прокалывали воздушные шарики, разбивали яйца и проливали жидкости — в одних случаях случайно, в других — нарочно. Далее их просили вспомнить, кто именно был виновником происшествия — как при опознании подозреваемого. С точки зрения языковых особенностей результаты оказались предсказуемы. Носители всех трех языков описывали намеренные события с использованием агентивных конструкций типа «Это он проколол шарик» и одинаково хорошо помнили виновников событий. Однако воспоминания о случайных происшествиях имели очень характерные различия. Участники, говорящие на испанском и японском, по сравнению с англоязычными, реже описывали происшествия с помощью агентивных конструкций и хуже запоминали их виновника. При этом в целом способность к запоминанию у них не была хуже — намеренные события, при описании которых виновник, разумеется, указывался, они помнили столь же хорошо, как и носители английского языка.
На иврите обозначение пола чрезвычайно распространено (даже слово «ты» различается в зависимости от него), в финском используется существенно реже, а английский занимает в этом отношении промежуточное положение. Оказалось, что выросшие среди говорящих на иврите дети осознавали свою половую принадлежность на год раньше, чем говорящие на финском.
Язык влияет не только на запоминание, но и на обучение. Во многих языках структура имен числительных более явно соответствует десятичной системе, чем в английском (в китайском, например, нет таких исключений, как «eleven» для одиннадцати и «twelve» для двенадцати, где нарушено общее правило прибавления к цифре, обозначающей единицы, основы «-teen», аналогичной русскому«-дцать»), и их носители быстрее овладевают счетом. Число слогов в числительных влияет на запоминание телефонного номера или счет в уме. От особенностей языка зависит даже возраст осознания своей половой принадлежности. В 1983 г. исследователь из Мичиганского университета (Анн-Арбор) Александр Гиора (Alexander Guiora) сравнил три группы детей, родными языками которых были иврит, английский и финский. На иврите обозначение пола чрезвычайно распространено (даже слово «ты» различается в зависимости от него), в финском используется существенно реже, а английский занимает в этом отношении промежуточное положение. Оказалось, что выросшие среди говорящих на иврите дети осознавали свою половую принадлежность на год раньше, чем говорящие на финском, а англоязычные дети заняли некое среднее положение.
Что на что влияет?
Я привела лишь несколько ярких примеров различий в познавательных функциях у носителей разных языков. Естественным образом возникает вопрос — влияют ли особенности языка на мышление или наоборот? Видимо, верно и то, и другое: от того, как мы мыслим, зависит наш язык, но есть и обратное воздействие. В последние десять лет с помощью ряда остроумных исследований было доказано, что язык, бесспорно, играет роль в формировании мышления. Выяснилось, что изменение состава языка влияет на познавательные функции. Так, обучение новым словам, обозначающим цвета, влияет на различение оттенков, а словам, обозначающим время — на восприятие времени.
Еще один путь исследования влияний языка на мышление — изучение людей, свободно говорящих на двух языках. Оказалось, что восприятие действительности в известной степени определяется тем, на каком языке такой человек говорит в данный момент. Два исследования, опубликованных в 2010 году, показали, что от этого могут зависеть даже такие фундаментальные свойства, как симпатии и антипатии.
Одно из исследований было проведено учеными из Гарвардского университета Олудамини Огуннейком и его коллегами, другое — коллективом Шая Данцигера из Университета Бен-Гуриона в Негеве. В обеих работах изучались подсознательные предпочтения у двуязычных испытуемых — владеющих арабским и французским в Марокко, испанским и английским в США и арабском и ивритом — в Израиле. Последним, в частности, предлагали быстро нажимать клавиши в ответ на предъявление разных слов. В одном случае при предъявлении еврейских имен (например, «Яир») или обозначений положительных качеств (например, «хороший» или «сильный») испытуемые должны были нажать клавишу «M», а при предъявлении арабских имен (например, «Ахмед») или отрицательных качеств (например, «плохой» или «слабый») — клавишу «X». Затем условия менялись таким образом, что одна клавиша соответствовала еврейским именам и отрицательным качествам, а другая — арабским именам и положительным качествам. Во всех случаях измерялось время реагирования. Такой метод широко используется для оценки подсознательных предпочтений — в частности, ассоциаций между этнической принадлежностью и положительными либо отрицательными чертами.
В китайском, например, нет таких исключений, как eleven для одиннадцати, и его носители быстрее овладевают счетом.
К удивлению ученых, скрытые предпочтения у одних и тех же людей существенно отличались в зависимости от того, какой язык они в данный момент использовали. В частности, в вышеописанном исследовании при использовании иврита подсознательное отношение к еврейским именам было более положительным, чем при использовании арабского. Видимо, язык влияет на гораздо более многообразные психические функции, чем принято предполагать. Человек пользуется речью даже при выполнении таких простых заданий, как различение цветов, подсчете точек на экране или ориентировании в небольшом помещении. Мы с моими сотрудниками обнаружили, что, если воспрепятствовать свободному использованию речи (например, попросить испытуемых постоянно повторять газетную выдержку), то выполнении таких заданий нарушается. Это позволяет предположить, что особенности разных языков могут влиять на очень многие стороны нашей психической жизни. То, что принято называть мышлением, представляет собой сложную совокупность речевых и неречевых функций, и, возможно, существует не так много мыслительных процессов, на которых не воздействовали бы особенности языка.
Важнейшая особенность человеческого мышления — пластичность: способность быстро перестраивать представления о действительности при ее изменениях. Одним из проявлений такой пластичности является многообразие человеческих языков. Для каждого из них характерен уникальный набор познавательных средств и каждый основан на знаниях и представлениях, накопленных в данной культуре на протяжении тысячелетий. Язык — это способ восприятия, познания и осмысления мира, бесценный руководитель по взаимодействию с окружением, созданный и выпестованный нашими предками. Изучение влияний языка на мышление поможет понять, как мы формируем знания о действительности и ее закономерностях, достигая все новых интеллектуальных вершин — иными словами, саму суть того, что делает нас людьми.
Редакция «Теорий и практик» благодарит журнал «В мире науки» за предоставленную статью Леры Бородитски «Как язык формирует мышление». Данный перевод был сделан Николаем Алиповым и опубликован в пятом номере журнала за 2011 год.
Язык и мышление
Язык и мышление два неразрывно связанных вида общественной деятельности, отличающиеся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. Язык является необходимым условием возникновения мышления, формой его существования и способом функционирования.
В процессе развития человеческого сообщества и его культуры мышление и язык складываются в единый речемыслительный комплекс, выступающий основанием большинства культурных образований и коммуникативной реальности. Кроме того, мышление является такой стороной общественной деятельности человека, которая сама по себе недоступна непосредственному восприятию.
Так же как и мышление, язык составляет какую-то сторону общественной деятельности человека и не может быть отделен от ряда других сторон этой деятельности, в частности от мышления и процессов общения: определенные звуки, письменные знаки и движения могут быть и являются знаками языка лишь тогда, когда в них выражены определенные мысли и они служат целям взаимного общения.
Так же как и мышление, язык не может быть реально отделен от других сторон общественной деятельности человека, но в то же время в отличие от мышления язык представляет собой нечто доступное непосредственному восприятию.
Вопросам их взаимодействия посвящено большое количество научных трудов. Эта тема и по сей день является наиболее притягательной для изучения со стороны языкознания, психологии, лингвистики, психолингвистики, логики и прочих наук. Даже не зная законов, по которым осуществляет свою работу мышление, и только примерно догадываясь, мы нисколько не сомневаемся, что мышление и язык связаны между собой.
Определение и функции языка
Язык и мышление неразрывно связаны между собой, это ни у кого не вызывает сомнения. Язык является необходимым условием возникновения мышления, формой его существования и способом функционирования. В процессе развития человеческого сообщества и его культуры мышление и язык складываются в единый речемыслительный комплекс, выступающий основанием большинства культурных образований и коммуникативной реальности.
Мышление главным образом оперирует понятиями как логическими значениями языковых знаков. Строго говоря, проблема значения слова связана не только с мышлением, но и с сознанием. Ведь кроме логических значений языковых знаков существуют также эмоциональные и эстетические.
Для чего человеку нужно слово?
Слово служит для названия. Человек выделяет в окружающем мире какой-то объект и благодаря называнию (номинации) делает этот объект пригодным для разговора. общения, передачи информации.
К. Маркс, например, назвал язык «непосредственной действительностью мысли».
С помощью слов можно интерпретировать другие знаковые системы (например, можно описать картину).
Словари наиболее развитых современных языков насчитывают десятки тысяч слов. С их помощью благодаря правилам комбинирования и объединения слов в предложения можно написать и произнести неограниченное количество осмысленных фраз, заполнив ими сотни миллионов статей, книг и файлов. В силу этого язык позволяет выражать самые разные мысли, описывать чувства и переживания людей, формулировать математические теоремы и т.д.
Функции языка
Язык может быть устным и письменным, он возникает в человеческом сообществе, выполняя важнейшие функции:
У высших животных имеются зачатки звуковой сигнализации. Куры издают несколько десятков звуков, выражающих чувство опасности, подзывающих цыплят, сигналящих о наличии или отсутствии пищи. У таких высокоразвитых млекопитающих, как дельфины, имеются уже сотни звуковых сигналов, что дает основание ученым полагать наличие языка в их коммуникации, и если это так, то нужно будет признать, что существует особая «дельфинья цивилизация».
По мнению физиолога И.П.Павлова, сигнализация животных основана на ощущениях и элементарных представлениях, названных им первой сигнальной системой. Она ограничена в объеме передаваемой информации, любая сигнализация животных может выразить столько единиц информации, сколько в ней есть сигналов. Любой человеческий язык может передать и выразить неограниченное количество информации и разнообразных знаний.
Древние говорили: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек.
Он знал по разным источникам от 30 (в совершенстве) до 100 языков. Английский поэт Джордж Байрон купить произведения Джорджа Гордона Ноэла Байрона проверял Меццофанти, «это лингвистическое чудо… на всех языках, на которых знаю хоть одно ругательство… и он поразил меня настолько, что я готов был выругаться по-английски». Кроме основных европейских языков он знал в совершенстве венгерский, албанский, древнееврейский, арабский, армянский, турецкий, персидский, китайский и многие другие языки, причем легко переходил с одного языка на другой. С ним встречались А.В. Суворов и Н.В. Гоголь купить произведения и экранизации Николая Васильевича Гоголя, и с ними он беседовал по-русски.
Язык и логика
Существуют различные мнения о соотношении языковых (прежде всего грамматических) и логических категорий.
Древнегреческий философ Аристотель (IV век до н.э.) полагал, что в основе грамматики лежит логика. Недаром у древних греков слово logos означало одновременно слово, мышление, разум и речь.
Противоположная точка зрения о несовпадении языковых и логических категорий поддерживается почти всеми современными лингвистами. Еще Герман Штейнталь, немецкий лингвист XIX века, выразил это в крайней форме:
«Категории языка и логики несовместимы и так же мало могут соотноситься друг с другом, как понятия круга и красного».
Логические и грамматические категории не совпадают, так как:
Определение мышления
Принято выделять следующие виды мышления:
Венцом эволюционного и исторического развития познавательных процессов человека является его способность мыслить.
Благодаря понятийному мышлению человек беспредельно раздвинул границы своего бытия, очерченные возможностями познавательных процессов более «низкого» уровня – ощущения, восприятия, представления. Чувственные образы, создаваемые с помощью этих процессов, обладая качеством надежной достоверности, то есть высокой степени соответствия объектам и ситуациям реального мира, дают возможность вовремя реагировать на происходящие изменения и эффективно строить свое поведение в ответ на эти наличные, непосредственно воспринимаемые события.
Придавая движениям определенное направление в пространстве, и регулируя их силу и скорость, чувственные образы в то же время, будучи жестко «привязанными» к объекту, его форме, свойствам, местоположению и скорости его продвижения, создают и определенные ограничения в познании окружающего мира. В этих образах окружающий мир предстает, так сказать, в нетронутом виде.
Для того, чтобы проникнуть в суть вещей и явлений, понять скрытые от непосредственного взора связи и отношения внутри них и между ними, необходимо активно в них вмешаться, произвести с ними некие физические или мысленные манипуляции, в результате которых эти скрытые связи и отношения становятся явными. Такое постижение этих связей раздвигает границы наличной ситуации не только в том смысле, что мы знаем, что воспринимаемые здесь и сейчас объекты и события являются лишь ничтожной частью всего сущего в безграничном пространстве и времени; но и в том, что мы своим умственным взором можем «увидеть» то, что не дано невооруженному мыслью глазу, уху, обонянию и т.д.
Такой умственный образ окружающего мира, сплетаясь с его чувственным образом, максимально отражает окружающий мир, хотя в то же время может порождать и химеры. С помощью мышления человек познает окружающий мир во всем многообразии, свойствах и отношениях.
Реально совершающееся мышление может быть, и часто бывает, неправильным с точки зрения формальной логики.
Оно может определяться субъективными пристрастиями, быть непоследовательным, свернутым, в процессе его осуществления могут допускаться логические ошибки, но именно это живое, обусловленное собственно психологическими факторами мышления и интересует психологов. При изучении мышления конкретных людей в конкретных обстоятельствах были получены очень важные факты.
В частности, было обнаружено, что с точки зрения достижения конечного результата, «ошибка»- понятие, весьма относительное, так как именно «ошибка» может выполнять очень важную подготовительную функцию при решении задач. Если логика изучает отношения между готовыми, уже сформированными понятиями, то психологию интересует также сам по себе процесс формирования понятий, при котором может происходить, например, приписывание вещам отсутствующих у них свойств. Кроме того, психологию интересуют не только развитые формы мышления, основанные на оперировании понятиями, но и более простые его формы.
Основной тезис о взаимосвязи психических явлений реализуется в исследовании влияния на мышление других психических процессов, состояний и свойств личности, таких как эмоции, установки, характер, личностные особенности.
Под мышлением мы понимаем нечто, происходящее где-то «внутри», в психической сфере, и то психическое «нечто» влияет на поведение человека таким образом, что оно приобретает нешаблонный, нестандартный, неповторяющийся характер. Когда мы наблюдаем однообразное поведение, слышим давно известные истины, знаем, что человек слепо верит во что-то, мы говорим, что здесь нет и намека на мысль. Приспособительная изменчивость поведения животных в некоторых ситуациях также побуждает нас предполагать наличие в нем разумной основы.
Приспособление к окружающей среде может осуществляться двумя принципиально различными путями:
В связи с тем, что никакая заранее подготовленная (врожденная) программа поведения не может полностью соответствовать изменяющимся условиям среды, любое поведение, основанное на психическом отражении, можно считать разумным, то есть целесообразным, где разумное означает индивидуально-изменчивое и приспособленное к конкретным обстоятельствам (О. К. Тихомиров). В более узком смысле, под разумным понимают нахождение отходных путей и использование орудий. Даже у животных всякое поведение представляет собой сплав врожденных и индивидуально-изменчивых форм поведения.
Без регулирующей функции образов невозможны также первичные исходные формы предметной деятельности и общения: без наличных образов люди, образно говоря, просто не нашли бы ни объекта для совместных действий, ни друг друга. В свою очередь, совместная предметная деятельность и общение, развиваясь, становятся мощной движущей силой и главным фактором развития мышления.
Исключительно мощным средством формирования мышления, таким образом, является вовсе не созерцание, а деятельность, действие, которое, по образному выражению С.Л. Рубинштейна, «как бы несет мышление на проникающем в объективную действительность острие своем». Разламывая кость, раскалывая орех, копая землю, бросая камень, царапая и пробивая мягкое твердым, человек постигает открывающиеся при этом связи между объектами.
Итак, на начальных этапах мощным средством развития мышления является практическое действие. В дальнейшем, при развитом мышлении, уже мысль становится средством организации действия, предваряющим его фактором, выполняющим программирующую и регулирующую функцию. При этом практическое действие не утрачивает своего значения и продолжает выполнять роль одного из основных средств совершенствования мысли. Об этом следует помнить каждому, кто в своем интеллектуальном развитии не желает останавливаться на достигнутом.
Связь языка и мышления
Еще древние греки использовали слово «logos» для обозначения слова, речи, разговорного языка и одновременно для обозначения разума, мысли. Разделять понятия языка и мысли они стали значительно позднее.
Другой немецкий лингвист Август Шлейхер считал, что мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма.
Филолог Макс Мюллер высказывал эту мысль в крайней форме: «Как мы знаем, что небо существует и что оно голубое? Знали бы мы небо, если бы не было для него названия?… Язык и мышление два названия одной и той же вещи».
К.Маркс, например, назвал язык «непосредственной действительностью мысли».
Однако многие ученые придерживаются прямо противоположной точки зрения, считая, что мышление, особенно творческое мышление, вполне возможно без словесного выражения.
Норберт ВинерАльберт Эйнштейн, Фрэнсис Гальтон и другие ученые признаются, что используют в процессе мышления не слова или математические знаки, а расплывчатые образы, используют игру ассоциаций и только затем воплощают результат в слова.
С другой стороны многим удается скрывать скудость своих мыслей за обилием слов.
«Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь» (Гёте).
Например, композитор Ю.А.Шапорин утратил способность говорить и понимать, но мог сочинять музыку, то есть, продолжал мыслить. У него сохранился конструктивный, образный тип мышления.
А композитор М.Равель после аварии в 1937 году, когда его левое полушарие было повреждено, мог слушать музыку, но писать ее уже не мог.
Роман Якобсон выделяет следующие функции речи:
Некоторые исследователи (Д.Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам) считают, что у нас есть очень отчетливое предвосхищение того, что мы собираемся сказать, у нас есть план предложения, и когда мы формулируем его, мы имеем относительно ясное представление о том, что мы собираемся сказать. Это значит, что план предложения осуществляется не на базе слов.
Таким образом, обе противоположные точки зрения имеют под собой достаточные основания.
Истина, скорее всего, лежит посередине, т.е. в основном, мышление и словесный язык тесно связаны. Но в ряде случаев и в некоторых сферах мышление не нуждается в словах.
Гипотезы о соотношении мышления и языка
Подразумевается, что эти понятия тождественны, хотя удобнее говорить об их синонимичности: ибо ничто не есть язык, только язык есть язык. Но это была бы тавтологическая характеристика.
А.Шлейхер заявлял: «Язык есть мышление в звуке, как и наоборот, мышление есть беззвучная речь».
Отвергая такое мнение, критики утверждают, что, во-первых, возможно говорение без мышления. Во-вторых, часто для уже готовых мыслей подыскивают слова, а иногда так и не находят.
В практике говорения имеются также примеры ложных высказываний (при правильных мыслях).
В первой гипотезе возможна была перестановка элементов равенства без ущерба для этого равенства (язык есть мышление, мышление есть язык). Согласно данной гипотезе говорение и мышление не одно и то же, а разные стороны одного процесса.
Язык и интеллект развиваются в тесной связи, но, ни один из них не является результатом другого. Мы можем мыслить без языка, но мы не можем говорить (осмысленно) без мышления.
Речевая деятельность, по мнению Г.П.Мельникова, меняет состояние сознания, но это изменение может протекать и без участия языковых знаков, например, под воздействием сигналов, получаемых от органов зрения, осязания и т.п. «Следовательно, речевая деятельность всегда сопровождается мыслительными процессами, но мышление может протекать независимо от языковых процессов. Именно поэтому одно и то же понятийное содержание может быть выражено различными языковыми средствами».
В этой группе можно выделить две разновидности:
Так, Э.Леннеберг убежден, что интеллект и речь, интеллектуальная и языковая способности человека совершенно самостоятельны и друг от друга не зависят.
Но все же зависимость данных феноменов при относительной автономности подтверждается большинством исследователей. Так, в общих чертах представляется совокупность существующих мнений относительно связей мышления и языка.
Все четыре гипотезы небезосновательны и имеют право на существование. Однако в любом случае невозможно отрицать наличие тесной связи между процессами мышления и функционированием языка.
Тесная связь между языком и мышлением может быть обоснована и тем, что структурное и понятийное значения тесно связаны между собой. Дж. Ферс полагал, что значение может быть раскрыто при помощи контекста ситуации, которая включает в себя не только саму обстановку речи и собеседников, но и окружающие предметы, социальный и культурный опыт говорящих.
Между понятиями и образами в речи и лексическими понятиями устанавливаются сложные и многоаспектные связи. В этих связях, несомненно, участвуют, как и другие семиотические системы, так и предметный мир, отражаемый сознанием. Связи составляют суть отношений между процессом мышления в языковой форме и языковым мышлением, когда возникает осмысление языкового выражения.
И в заключение.
Несовпадение «живой мысли» с внутренней речью, сложность процесса вербализации мысли позволяет подвергнуть сомнению общепринятую трактовку языка как прародителя мышления. Исследования психологов, физиологов, лингвистов, языковедов и философов подтверждают тот факт, что язык и мышление связаны тысячами нитей и взаимопереходов. Они не могут существовать друг без друга.